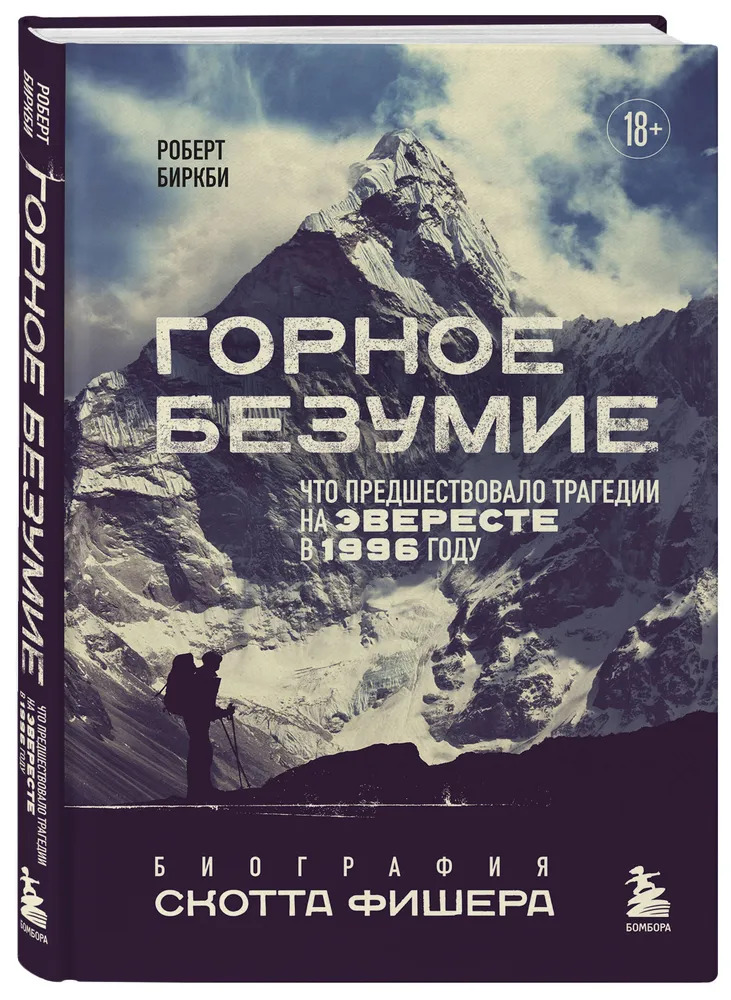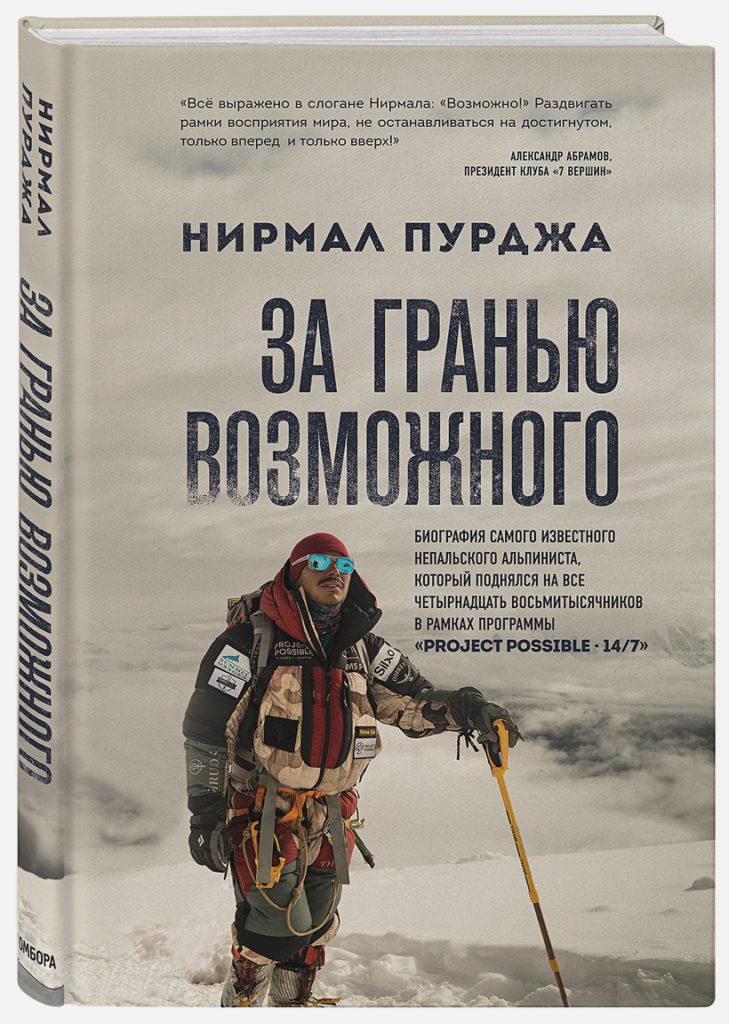Доводилось ли вам ночевать неподалеку от вечного огня? Мне – да. И не одну неделю. Это тяжело. Не из-за культурной и исторической составляющей такого огня, а просто в силу того, что он светит. Физически светит. Хотя…
В последние две недели света и тепла было много. Началось все на остановочном пункте А, названном в честь божества солнца и света. Как античные греки перед трапезой отливали из чаш немного вина богам, так поезд, останавливающийся в пункте А, выплескивает ранним утром нескольких не успевших толком пробудиться пассажиров. Двухминутное десантирование на низкую платформу завершено, заспанная харита в мятой униформе с отработанной, уж извините, грацией захлопывает дверь вагона, поезд трогается, и остаешься почти наедине с тишиной и быстро тающей ночной прохладой.
В городе N за минувшие четыре года, на первый взгляд, ничего не изменилось. Все та же ползучая газификация смотрится дико, хищно, желтые трубы ее выкидывают самые неожиданные коленца, пуская отростки в дома, но выдерживая основное направление вдоль улиц, идущих строго параллельно и перпендикулярно – порядок, что ли, раньше такой у казаков в станице был? Бесконечные ряды шелковиц и черешен… о, разочарование! – вишен заставляют рот наполниться кисло-сладкой слюной. Отягощенные ветки клонятся низко, только протяни руку, ягоды сами падают в ладонь, оттого их никто не собирает. По кровавым вишневым и шелковичным рукам и ртам безошибочно вычисляются немногие приезжие. Непонятно, как можно пренебрегать такой роскошью – литровая банка наполняется ягодами за пять минут, не сходя с места. Но с банками никто не ходит, тута съедается прямо тута.
Пересечение улиц Центральной и Октябрьской дает в сумме площадь, где классически ожидаешь увидеть памятник Ленину, но внезапно – Кирову. Монумент небольшой, соответствующий невеликости города. Ильич тоже имеется, но дальше к центру, он покрупнее, стоит в полный рост с опущенными руками, одна из них повернута недоуменным жестом ладонью вовне: «Что за чертовщина происходит?»
Вождь прав. Станичный патриархат когда еще сменился социалистическим, но ушла и советская власть, в 1990-е на улицах появились заниженные «тазы» с громкой музыкой… Убыстренная смена эпох стабильна лишь в одном – товарищи с кинжалами продолжают выползать на ставропольский берег, что вызывает беспокойство у местного населения.
Город обветшал. Меньше стали ходить трехвагонные электрички и прочий общественный транспорт, закрылись многие магазины, в подслеповатых окнах отчетливо виднеется лишь одно: «Продается». Та же надпись и на некоторых домах. Эта картина входит в противоречие с бурным облагораживанием центра – тающие от пота при подмышечной температуре рабочие пилят вековые деревья, расширяя улицы под парковки, выравнивают бордюрные камни, толстым слоем, не жалея, кладут асфальт, в котором из-за жары еще долго можно делать аллеи местной славы, щедро – по-московски – вымащивают плиткой большие пространства. В исходящем от потревоженной поверхности мареве висит неумолчная площадная брань, она стихает, лишь когда проходит красивая женщина. Тогда работа прекращается, смуглые мужские головы синхронно, восхищенно цыкая и жадно причмокивая, поворачиваются вослед, а раздетая десятком пар глаз красавица невольно ускоряет шаг. Денег на благоустройство у города нет, их прислали свыше, говорят, даже «свыше» губернатора.
Днем жизнь кипит только в магазинах – бордюрные сизифы не в счет, и здесь еще по-старому, по-советски бесполезно пытаться обратить на себя внимание продавщиц. Они увлечены разговором друг с дружкой и, пока мысль не будет изречена, не снизойдут.
Заниженные «тазы» все с той же громкой музыкой продолжают курсировать по улицам, однако исчезла былая бесшабашность – потеснили цыгане. Новое их поколение уже безлошадно, но все так же красиво, худощаво, длинноюбочно и цветасто. Держатся всегда обособленно, говорят о своем, о цыганском, на своем, на цыганском, переходя на русский в случае надобности и с некоторым презрением. И, по словам местных, потихоньку прибирают к рукам все в округе.
Одним краем город свисает в обрыв, с которого не только тянет бросить камень с видом на большой луг внизу, пасущихся коров и футбольное поле, но и отыскать взглядом далекую верблюжью гору Э и несколько других, видных в хорошую погоду. Хорошей погоде обычно предшествуют грозы. Если таковая чревата градом, то к грому примешивается пушечное градобитие. Стреляют, не жалея снарядов, воды с неба льется мало, и ввечеру, при свете вечного огня, мирная канонада навевает странные мысли.
Ночью душно и жарко, спать не получается. В такие ночи полусонные мысли текут лениво, спокойно, тоскливо. Но не здесь – здесь тревога и беспокойство. Кто догадался устроить мемориал менее чем в пятидесяти метрах от жилых домов, непонятно. Пламя вечного огня не ровное – порывистое, из-за него мрак южной ночи еще гуще, а в комнатах близстоящих домов мечутся инфернальные тени. К кому-то свет попадает сквозь немногочисленные кусты, и тени разнообразны, в моем же случае рама окна, на которую свет падает под углом, дает почти точное изображение креста, только без праведного мерила. Это могильная проекция могильной же перспективы на белой стене из-за колебаний пламени не по-ночному жизнерадостна, трепещет с раздражающей мозг частотой, что чувствуется даже через закрытые веки. Так в грустных черно-белых немых комедиях, не давая зрителю передышки, мечутся герои.
Близость к вечному огню вкупе с постоянством наблюдения позволяет увидеть не символ, но объект. И очевидно, что это уже абстракция. За все время пребывания в городе N я не видел, чтобы у мемориала останавливался кто-то, кроме ежедневного нерусского мужчины, окучивающего и поливающего бархотки и прочие клумбовые цветы. Монумент безнадежно нов, точнее, что куда неприятнее, – казенно обновлен до блеска и гладкости. Памяти не пристало быть без провалов, без трещин. Выбитые на камне-плите фамилии, у подножия которой всегда живые лежат пластиковые цветы, не чувствуют взглядов. Единственным исключением из немногих проходящих оказывается девочка лет двенадцати. Но и ее интересует лишь плазма. Убедившись, что никто не видит, она сует в пламя ногу, обутую в кроссовку, и фотографирует на смартфон в разных ракурсах. Для этого поколения Великая Отечественная так же далеко, как для нас Первая мировая. Мы действительно ничему не учимся. Уже сейчас наверняка кто-то потирает руки, в ожидании момента, когда очередной Гаврила пойдет на принцип… И начнется время великого списания. И вновь зазвучат абсурдные фразы вроде «законы и обычаи войны», «применение оружия, причиняющего бессмысленные страдания, противоречит принципам гуманизма». Этот послевоенный гуманизм послевкусия и многокровия смотрится на будущее очень странно: резать точно будем, но давайте договоримся – кого и как, определим, когда кто допустимо и осмысленно страдает, а когда уже излишне и бессмысленно. Резать надо гуманно. Действует в обе стороны – чем дальше от объекта, тем спокойнее режущему.
Поток мыслей прерывается проезжающим музыкальным «тазом», а мятущийся крест на стене блекнет в свете фар. Тут же далекие и близкие встревоженные петухи начинают досрочно проситься в суп. Но вот «таз» отгромыхал, и крестотень проступает на своем месте.
«Ты, когда в войну летал и бомбил, сколько немцев убил?» Этот простой вопрос, заданный из любопытства ребенком лет восьми, ввергает деда в ступор. «Знаешь, я никогда об этом не задумывался», – после долгого молчания отвечает он.
Огонь слишком настойчив, назойлив. Невозможно страдать вечно, помнить вечно, разве что на государственно-коллективном уровне. «Мы чтим память…» Память священна…» «Навсегда останется в нашей памяти…» Все не то. Это уже ярлыки, наклейте марку поэкзотичнее, например, египетскую, снизойдите до человека: память – это больная девушка-еврейка, убегающая ночью тайком от родителей на вокзал – не увезет ли кто?
Можно было бы опустить тяжелую штору, и она понесет этот крест, но штора не пускает свежий воздух с улицы. Кладу на глаза скатанную футболку и поворачиваюсь на бок. Каждый сам решает свой постылый или не очень ребус бытия, но вот выпала редкая возможность делать это под тупые звуки вспышек газа. Деньрождениевая ночь коротка. На сетчатке все еще пульсирует крест, но уже в такт когда-то услышанному:
Смерть – это сон в квадрате
комнаты на рассвете,
невписавшиеся в Азы надутые Буки, Веди.
Я не хочу писать, ибо ночи мои конечны,
кошки мои немолчны, мыши мои невечны.
Вещи мои – папиросы, папирус – не пуще духовной пищи.
Впрочем, куришь ты или пишешь,
в перспективе одно –
пепелище…