Написать данную статью побудил случай. На книжной выставке попался качественно изданный «Посторонний» Альбера Камю. Так как моя старая книга 1969 года (перевод Наталии Немчиновой) сильно поистрепалась, то проходить мимо новой не стоило. Купил. Чтение принесло не удовольствие – удивление. В новом «Постороннем» чувствовалась какая-то фальшь. Как будто кривое зеркало. Содержимое под красивой обложкой сильно отличалось от того, что было в другой – старой книге. И хотя речь шла об одном и том же «мсье Мерсо», казалось, описываются совершенно разные люди. Новый перевод?
Повозмущавшись современной тенденцией делать на все «римейки», даже на литературные переводы, полюбопытствовал, кто же автор. С удивлением прочел имя Норы Галь. Она же известный переводчик Элеонора Гальперина. Это уже было интересно, и стоило разобраться. Однако чем больше пытался понять, что к чему, тем сильнее меня захватывала тема. В конце концов, мыслей стало так много, что возникла потребность их структурировать. Так появилась эта статья.
***
Сразу стоит оговорить несколько моментов. Во-первых, все написанное ниже является частным мнением, с которым «мнение редакции может не совпадать», как это принято писать в журналах при публикации заказных статей. Поэтому дальнейший текст идет от первого лица вместо общепринятого «мы». Во-вторых, большой помехой к рассуждениям на тему являлся тот факт, что я не знаю французского языка. На мой взгляд, это не препятствие, однако большинство опрошенных переводчиков полагают, что сравнение переводов неправомочно, если сравнивающий не знает языка оригинала.
В качестве «оправдания» можно привести сами переводы «Постороннего» Элеоноры Гальпериной и Наталии Немчиновой. Вполне достаточно текстов двух признанных профессиональных переводчиков – они выступают порукой того, что оригинал переведен адекватно. (Замечу в скобках: адекватно – не значит правильно, как бы парадоксально это ни звучало.)
Вторым «оправданием» может послужить статья Юлианы Яхниной «Три Камю», посвященная сравнению переводов «Постороннего» (Немчиновой, Галь и Адамовича). Эта статья в известной степени развязала руки и еще больше подстегнула, так как при очень хорошем подборе материала для сравнительного анализа – фраз из русских текстов и из текста оригинала – Ю.Яхнина делает совершенно неожиданные выводы, отдавая «пальму первенства» переводу Норы Галь. В конце статьи будут приведены и проанализированы несколько цитат Яхниной.
Прежде чем перейти непосредственно к сравнительному анализу, скажу несколько слов о том, почему именно «Посторонний» вызывал такой интерес.
В литературе, впрочем, как и в любом виде искусства, существуют так называемые «хорошие» темы. Например, стоит снять фильм о похищении ребенка и удержании его в заложниках и заранее можно сказать, что у этой ленты будут зрители. Стоит написать книгу о соблазнении взрослым мужчиной девушки-подростка, у книги обязательно найдутся читатели. Наконец, стоит написать о последних днях жизни заключенного, и это тоже будут читать.
Существует, правда, обратная сторона медали: данные сюжеты заезжены и затасканы до невозможности. Именно поэтому к писателю (режиссеру и т.д.), выбравшему такую тему, уже априори предъявляются более высокие требования – из-за инфляции. Такая тема служит своего рода мерилом таланта автора: либо он напишет что-то пошло-сентиментальное из разряда чтива на каждый день, либо создаст шедевр. Третьего, пожалуй, уже быть не может.
«Посторонний» привел в полный восторг тем, что Камю, во-первых, разработал эту тему совершенно нестандартно с точки зрения языка («нулевой градус письма»), во-вторых, он посмотрел под новым углом на несколько вопросов, касающихся животрепещущей для каждого человека темы взаимодействия личности с обществом.
О «нулевом градусе» «Постороннего»… Первым этот термин использовал критик Ролан Барт, объяснивший, что Камю старается сделать свой язык выразительнее посредством «нулевой степени письма, независимой от предварительных требований языка«. И далее Барт логично заключает, что для Камю в подлинном произведении искусства «всегда высказывается меньше, чем подразумевается».
Интересен механизм того, как Камю это делает.
Во-первых, большую роль играет местность, где происходит действие. Повесть начинается «широко» – с моря, с пляжа, с солнца в маленьком городе, где жизнь нетороплива и, в общем-то, легка. Создается впечатление, что все происходит словно в отпуске на берегу моря, где и курортный роман допустим, и даже драка на почве ревности. Если попытаться мысленно перенести события, описываемые в первой части книги, в условия, например, большого города, то эффект пропадет, и сюжет станет просто детективным.
Во-вторых, описание от лица Мерсо дается не то чтобы скупо, но достаточно индифферентно, отстраненно, он просто констатирует факты своей жизни, особенно не рефлексируя, и отсутствие рефлексии является одной из составляющих того, что в итоге дает эффект «легкого дыхания» по Бунину – Мерсо не воспринимаешь как убийцу.
Далее Камю начинает сужать пространство – сначала до размеров пляжа, где происходит убийство, затем до размеров суда и тюремной камеры, и наконец ограничивается стойками гильотины. Здесь «градусность» по-прежнему остается нулевой, но, скажем так, повышается степень ее накала. Как это происходит?
Сохранять «нулевую градусность» позволяет выход за временные рамки повествования. Например, рассказ Мерсо о тюремном заключении начинается следующими словами: «О некоторых вещах я никогда не любил говорить. Когда меня заключили в тюрьму, я уже через несколько дней понял, что мне неприятно будет рассказывать об этой полосе своей жизни. Позднее я уже не находил важных причин для этого отвращения». Так может говорить лишь человек, который сидел в тюрьме, вышел и рассказывает об этом спустя некоторое время. Таким образом, появляется некий эффект невовлеченности Мерсо в происходящее во второй части повести, где описываются исключительно его личные переживания.
Степень накала показывается также за счет работы механически карающего правосудия. Камю очень тонко играет на противопоставлении интерпретации фактов: Мерсо интерпретирует их по-своему, правосудие по-своему. Правы обе стороны. Опять же, почти никакой рефлексии. И это вновь одна из составляющих, которая заставляет брать сторону проигравшего, коим почти всегда оказывается человек, а не социум, ибо впереди стоит гильотина.
Кроме того, Камю прячет в тексте – в общей ткани повествования – очень актуальные философские проблемы и вскрывает порочность механизмов, обеспечивающих взаимодействие «личность-общество». Данные фразы сразу же привлекают внимание и заставляют сильно задуматься, будучи сказаны сами по себе, отдельно, вне контекста. Их, в общем, можно назвать откровениями. Однако в тексте их не видно: автор как бы между делом вкладывает их то в уста самого Мерсо, то в уста второстепенных героев. Тем не менее, влияние на читателя эти утверждения оказывают, но каким-то окольным путем, исподволь. Наверное, это можно сравнить с инерцией мышления. Совокупность откровений в том случае, если читатель их не заметил, действует, хоть и опосредованно, но крайне угнетающе, многократно усиливая степень накала «нулевого градуса».
(Примечание: четыре примера, приведенные ниже, даются в переводе Наталии Немчиновой.)
Например, в беседе с адвокатом, когда тот говорит, что Мерсо «проявил бесчувственность» на похоронах матери, и хочет знать, было ли ему тяжело в тот день, Мерсо отвечает, что он, «конечно, очень любил маму, но это ничего не значит, так как все здоровые люди желали смерти тем, кого они любили«. В этом примере Камю устами Мерсо открытым текстом – в лоб поднимает такую проблему, которая касается всех без исключения, но над которой не то что мало кто задумывается, далеко не все в состоянии признаться себе, что это правда.
Два других примера, кстати, стоящие в тексте рядом друг с другом, показывают, насколько взаимоотношения «личность-общество» ущербны, циничны и несправедливы по отношению к первой составляющей этой пары. Адвокат в беседе с Мерсо, сообщает ему, что судебный процесс займет дня два-три, не больше, и далее цитата: «суд будет торопиться, так как ваше дело не самое важное на этой сессии, сразу же после него будет разбираться отцеубийство«. Это говорит адвокат (!) своему подзащитному, которого он должен, в общем-то, хотя бы морально поддерживать. При этом невозможно вменить в вину адвокату душевную черствость, он просто констатирует факт с точки зрения человека, которому еще жить и работать много лет и для которого данный случай лишь эпизод в профессиональной деятельности. Не исключено также, что это своего рода психологическая защита от этой деятельности. Действительно, «смог ли бы дядя Вася работать в морге, если бы он плакал над каждым трупом?» ((с) Юз Алешковский). Но что же подумает подсудимый, услышав такое? Между тем ему приходится смиряться, что лишь усугубляет трагедийность фарса под названием «судебный процесс».
Буквально абзацем ниже Камю дает еще одну фразу. Один из жандармов, охраняющих Мерсо в зале суда, перед началом процесса спрашивает, не страшно ли ему. Мерсо отвечает, что нет, наоборот, интересно, ведь он никогда не бывал на судебных процессах. И далее следует комментарий жандарма: «Да, но в конце концов это надоедает«. Это еще более циничное по форме замечание, вызванное раздражением от скуки и рутины. Если адвокат довольно деятельно в судебном процессе участвует, то жандарм тут в роли немого статиста – он не относится ни к одной стороне – ни к судьям, ни к обвиняемому и потому заинтересован только в одном: чтобы все это просто быстрее кончилось. В результате подсудимому, которому недавно сказали, что его процесс не самый важный, остается к тому же задумываться о том, что «это в конце концов надоедает». Только вот, в конце концов чего? Оставшихся немногих дней жизни?
Еще одно наблюдение (откровение) Камю, высказанное Мерсо, вновь касается взаимоотношений «личность-общество», а вернее того, во что их превращает бюрократизация и механистичность правосудия. «Мерсо в размышлениях о том, что его ждет в дальнейшем, приходит к выводу, что «приговоренный обязан морально участвовать в казни». В этой мысли чудовищная безысходность! То есть вовлеченность казнимого в процесс стопроцентная – мало того, что физическая, но еще и моральная. (Пожалуй, в советских застенках приговоренному было легче – он не знал, когда его убьют. Говорят, зачастую после объявления приговора подсудимого переводили в камеру смертников, где, как ему заявляли, он будет ждать дня казни, и по пути туда, в тюремном коридоре, палач стрелял ему в затылок.)
Тотальная безысходность Мерсо многократно усугубляется вышеупомянутыми бюрократизацией и механистичностью правосудия, о которых, кстати, Камю напрямую не говорит, а лишь подталкивает к этой мысли наводящими предложениями, например: «гильотина поразила меня еще и тем, что она была похожа на прекрасно отделанный, острый и блестящий, точный инструмент«; ну, и наконец: «Для полного завершения моей судьбы, для того, чтобы я почувствовал себя менее одиноким, мне остается пожелать только одного: пусть в день моей казни соберется много зрителей и пусть они встретят меня криками ненависти».
Когда человека убивает тот, кто его ненавидит, чисто психологически это легче, потому что ненависть можно понять, можно также испытывать ответную ненависть. То есть можно спрятаться за эмоцию, уйти в нее. Но когда убивает механизм правосудия, общественная система (в данном случае французский народ, от имени которого, как объявил судья, Мерсо отрубят голову), осужденный остается со смертью один на один, окруженный вдобавок толпой любопытствующих, пришедших на зрелище, и ему приходится морально участвовать в казни, желая, чтобы нож перерубил его шею как можно быстрее и чтобы не было осечки.
Если убивает не заинтересованный человек, а просто чиновник, выполняющий свою работу, не дай бог попасть в руки такого правосудия! Отсюда берутся анекдоты типа:
Палач приходит домой, за спиной мешок, в котором что-то шевелится. Жена спрашивает:
– Что у тебя там?
– Да так, халтурку на дом взял.
«Посторонний» заставляет задуматься, как часто каждому из нас приходится вот так морально участвовать в казнях, которые общество над нами учиняет ежедневно, и как мы от этого спасаемся, переходя на сторону любопытствующих при осуществлении казни кого-нибудь другого. Третьего не дано – либо под нож, либо в ложу. Кстати, от того, что смерть символическая, легче не становится, поскольку цена борьбы с обществом, равно как и цена привычки, адаптации, мимикрии к нему слишком высока для индивидуума, даже если он этого не чувствует.
Вот вкратце и в общем то, что хотелось сказать о впечатлениях и мыслях, какие дает текст Камю, и как он работает. Однако стоит оговориться – не текст Камю, а его интерпретация, выполненная переводчицей Наталией Немчиновой. «Посторонний», переведенный Норой Галь, к сожалению, не вызывает большей части вышеизложенных мыслей.
***
Давайте посмотрим, что же происходит, когда текст подвергается переводу. Сложности начинаются с самого начала. В ситуации, когда художественное произведение переводится на другой язык, колоссальное значение приобретает не только профессионализм интерпретатора per se, но также и умение переводчика «схватить» тональность оригинала, и вовлеченность в то, что он переводит.
Если развивать это рассуждение до конца, мы упремся, пожалуй, в личность переводчика. С профессионализмом все понятно – это лишь составляющая, но составляющая обязательная. Сложнее дело обстоит с вовлеченностью, вернее с увлечением интерпретатора произведением.
Если подходить к переводу только профессионально, на выходе получится то, что можно назвать добротным подстрочником. То есть текст будет хорошо и правильно переведен, но души в нем не будет (прошу прощения за метафизику):
Только то и тревожит, что грядущий режим,
не испытан, не прожит, но умом постижим.
Здесь, переиначивая строки, можно заменить «грядущий режим» на «художественное произведение».
Только профессиональный (бесстрастный) подход уместен при переводе нейтрального материала, например, текстов новостей или инструкций по эксплуатации бытовых приборов. В случае художественного произведения, тем более зная, что книга разойдется большим тиражом, переводчик обязан осознавать, что в его руках в этот момент находится судьба произведения (если смотреть дальше, то и судьба других произведений этого же автора да и самого автора в придачу), равно как в руках исполнителя музыкального произведения находится судьба композитора. С той лишь разницей, что в музыке исполнителей множество и интерпретировать произведение по-новому не сложно – сколько исполнителей, столько и интерпретаций. В литературе же часто бывает так, что перевод может стать единственным – первым и последним. Это связано с тем, что переводчик для большинства читателей (а главное для критиков, суждения которых основная масса читателей, к сожалению, принимает на веру) является как бы «серым кардиналом» – в случае неприятия произведения публикой тухлые яйца чаще всего летят в автора оригинала.
Общеизвестно, что чем сложнее структура текста – это касается формы и в особенности содержания, тем труднее сделать адекватный перевод. Перевод не может быть адекватным на сто процентов, в нем всегда содержатся те или иные искажения. В первую очередь это обусловлено иной структурой языка, на который переводится текст, во вторую – тем, что было названо выше вовлеченностью переводчика. Перевод наиболее близкий к идеалу, видимо, имеет место лишь тогда, когда интерпретатором является сам автор, одинаково хорошо владеющий обоими языками. (Классический пример – Чабуа Амирэджиби и два его романа: «Дата Туташхиа» и «Гора Мборгали».) Во всех других случаях существуют более-менее точные попадания, и читательская удача в том заключается, когда существует не один перевод, а несколько, сделанные разными переводчиками. Тогда можно будет если и не получить шедевр, то по крайней мере с большей степенью достоверности узнать, что же сказал автор оригинала и насколько красиво он это сделал.
Хотя нет. Есть еще вариант. Переводчик может «прыгнуть» выше оригинала, раскрыв его значительно лучше, потому что острее автора переживает проблему, либо полнее «вжился» в нее. В данном случае, полагаю, это исключено, так как помимо «Постороннего» Камю написал множество других великолепных произведений (одно «Падение» чего стоит!), кроме того, Нобелевскую премию по литературе не присуждают за здорово живешь.
Названное добротным подстрочником – палка о двух концах. Полагаю, что, к сожалению, таких переводов большинство. Они хороши тем, что дают возможность познакомиться с автором, о котором до сих пор мы ничего не слышали. Но, в то же время, это медвежья услуга и автору, и читателям, потому что эти переводы не поднимаются выше некоего среднего уровня! Добротный подстрочник любой шедевр превращает в обычное чтиво. Но это полбеды. Еще большая опасность заключается в том, что авторы таких переводов делают их, не сознавая, что губят оригинал. Предъявлять обвинения бессмысленно – в лучшем случае переводчик просто так видит, то есть вступает в силу фактор субъективности и, простите, бесталанности. В худшем – он зарабатывает этим деньги, как это ни парадоксально. То есть получается, что профессия наступает на горло собственной песне. Когда переводчик берется за перевод литературного произведения только с целью заработать и вкладывает в текст лишь профессионализм, но не душу – это, разумеется, самое настоящее преступление. Было бы очень интересно провести исследование на данную тему, ибо не исключено, что из-за переводов, сделанных по принципу «1 слово – 1 рубль», мы лишились многих шедевров мировой литературы. Однако исследование невозможно по очевидным причинам: необходимо обладать хотя бы 3-4 вариантами перевода каждого произведения, либо знать все языки.
Таким образом, у добротного подстрочника два пути: вдумчивый читатель может увидеть потенциал текста, заинтересоваться и поискать другие переводы, либо он станет учить язык оригинала, чтобы этот потенциал выявить (но такое случается крайне редко, например, кто будет учить китайский, чтобы понять в полной мере философию Конфуция, или японский, чтобы насладиться поэзией Мацуо Басё?), обычный же читатель пролистает произведение перед сном, как говорится, составит впечатление, и всю оставшуюся жизнь нераскрытый (переводчиком) шедевр будет пылиться на полке.
Примеров добротного подстрочника можно привести много. Таким, например, является перевод «Голема» Густава Майринка, выполненный В.Крюковым. Из романа, главной составляющей которого является метафизика на фоне детективного сюжета, почти вся эта метафизика убрана, оставлен лишь детектив, который сам по себе не очень интересен, а попадающиеся в тексте метафизические фрагменты вызывают недоумение и вопрос «к чему здесь это?» К счастью, существует альтернативный перевод романа, выполненный Д.Выгодским.
Очень интересно провести сравнительный анализ переводов стихотворения Джона Донна «Блоха» (The Flea). Существует перевод В.Топорова, существует перевод Г.Кружкова, который из стихотворения вообще басню Крылова сделал. В противовес им существует перевод И.Бродского. И так далее.
Разумеется, нет смысла выдвигать какие-либо обвинения в адрес Норы Галь. Это совершенно замечательная переводчица – например, ее переводами Джека Лондона восхищается уже которое по счету поколение читателей. Но почему-то в случае «Постороннего» и перевод плох, и, кроме того, выбрана неправильная стратегия. Вернее, Галь дала неправильную интерпретацию образа Мерсо. При сравнительном анализе будет видно, что «Посторонний» Немчиновой имеет куда больше попаданий в цель, он цельнее, логичнее, красивее, не вызывает противоречий, создает впечатление целостной картины и заставляет задуматься над тем, что сказал автор, а не над тем, что он хотел сказать.
***
Начнем с легкого. В переводе Галь приходится отметить некоторую неделикатность, где-то даже грубость просто в описательных, второстепенных местах повествования, а также не очень хорошую проработку фактуры. Эти недочеты не играют большой роли, потому что на смысл особо не влияют, просто портят общее впечатление, что, тем не менее, немаловажно, так как речь идет о шедевре.
• В день похорон матери Мерсо разговаривает с директором дома престарелых и ему кажется, что директор упрекает его в том, что он поместил свою мать в приют. Мерсо начинает объясняться, на что директор говорит (перевод Немчиновой): «Вам совсем не нужно оправдываться, дорогой мой». Галь же дает снисходительно-панибратское «не нужно оправданий, дружок».
• Мерсо описывает тех, кто собрался провести ночь у гроба его матери. Немчинова: Почти все женщины были в передниках, стянутых в поясе, и от этого у них заметно выступал живот. Никогда раньше я не замечал, какие большие животы бывают у старух. А мужчины почти все были очень худые и держали в руках трости. Галь: Почти все женщины были в фартуках, перетянутых в талии шнурком, от этого еще заметней выдавались животы. Никогда прежде я не замечал, что у старух бывает такой большой живот. Мужчины были почти все тощие и опирались на палки. У Галь здесь не очень хорошо проработана фактура – трудно представить женщин в доме престарелых, ходящих в фартуках, перетянутых шнурком. Фартук больше подходит для кухни, шнурок – для монашеской рясы. У слов тощие и палки значительно снижена оценочная характеристика по сравнению с немчиновскими худые и трости.
• Немчинова: В эту минуту вошла сиделка. Уже наступил вечер, над стеклянной крышей быстро сгустилась темнота. Сторож повернул выключатель, и меня ослепил внезапно вспыхнувший свет. Сторож пригласил меня в столовую пообедать. Но я отказался, мне не хотелось есть. Здесь описание последовательности событий связно и логично, в то время как в переводе Галь все события словно свалены в одну кучу: Тут вошла сиделка. Неожиданно настал вечер. Над стеклянной крышей вдруг сгустилась тьма. Привратник повернул выключатель, и меня ослепил яркий свет. Потом он предложил мне пойти в столовую пообедать. Но есть не хотелось.
• Галь: Было тихо, я выпил кофе и согрелся, из открытой двери тянуло запахом ночи и цветов. Это еще одна фактурная недоработка. Что значит «запах ночи»? Ср. с переводом Немчиновой: Было тепло, я согрелся от выпитого кофе; в открытую дверь вливались запахи летней ночи и цветов.
• В этом примере Галь вновь фактура и сниженная оценочная характеристика: Помню, в какую-то минуту я открыл глаза и вижу: все старики спят, обмякнув на стульях, только один не спит – стиснул обеими руками палку, оперся на них подбородком и уставился на меня, словно только того и ждал, чтоб я проснулся. Совсем по-другому этот фрагмент передан у Немчиновой: Помню, как на мгновение я открыл глаза и увидел, что старики спят, тяжело осев на стульях, и только один оперся на набалдашник своей палки, положил подбородок на руки и смотрит на меня в упор, будто ждет не дождется, когда же я проснусь.
• Заметим, что закрепляя за Мерсо резкую форму высказываний (чем оказывает, как будет видно в дальнейшем, себе медвежью услугу), Галь то же самое делает и с другими действующими лицами. Вот перевод слов директора, который сообщает Мерсо о том, что разрешил одному из стариков сопровождать гроб матери Мерсо на кладбище: «Тома Перез – старый друг вашей матушки. Понимаете, чувство это немного ребяческое. Но они с вашей матушкой были неразлучны. В доме над ними подшучивали, Переза называли женихом. Он смеялся. Им обоим это было приятно. И надо признать, что смерть госпожи Мерсо для него тяжелый удар. Я не счел нужным ему отказывать». В переводе Немчиновой выделенная фраза выглядит так: «У меня не хватило духу отказать ему».
Более жесткие по форме примеры можно отметить в переводе Галь, например, когда речь идет о собаке старика Саламано, или когда Селест и Раймон дают характеристику Саламано и собаке.
• Еще один описательный момент, в котором вновь видно, что перевод Немчиновой более точен и выверен, он не оставляет ничего лишнего в тексте и не заставляет задумываться над тем, что хотел сказать автор. Галь пишет: Вереницы кипарисов тянулись к холмам у горизонта, меж кипарисами сквозила земля – где зеленая, где рыжая, – отчетливо вырисовывались редкие домики, и я понимал маму. Должно быть, вечер в этом краю – как раздумчивое затишье. А вот сейчас под неукротимым солнцем все вокруг содрогается и в свой черед становится гнетущим и жестоким. Если еще можно представить, что окружающий мир содрогается под неукротимым солнцем, хотя уже и это звучит странно, то почему «все вокруг в свой черед» становится гнетущим и жестоким? Что за очередность? Кто ее установил? Ничего такого у Немчиновой не обнаруживается: Увидел ряды кипарисов, поднимавшихся к небу над холмами, рыжую и зеленую долину, разбросанные в ней, отчетливо видные домики – и я понял маму. Вечерами эта картина, должно быть, навевает чувство тихой грусти и покоя. А сейчас сверкает солнце, дрожат струи горячего воздуха, и весь этот пейзаж кажется бесчеловечным, гнетущим.
Наверное, достаточно приведено больших по размеру примеров недоработанной фактуры и сниженной оценочной окраски в переводе Галь. Ниже даны еще несколько без контекста и пояснений – простыми противопоставлениями – фраза Галь, через тире более качественный перевод Немчиновой, и на этом достаточно, иначе становится просто скучно. Итак:
• Возле моей двери торчал Саламано. – У своей двери я обнаружил старика Саламано.
• Я немного оправился и вдруг сообразил, что голоден. – Я почувствовал себя лучше и заметил тогда, что голоден.
• Под ногами валялись желтоватые камни. – Плато было усеяно желтоватыми камнями.
• Море, тяжко дыша и захлебываясь, выплескивало на берег мелкие волнишки. – На песок набегали мелкие волны, как будто слышалось быстрое приглушенное дыхание моря.
• Мне хотелось этой чудесной плоти. – Мне хотелось сжать ее обнаженные плечи.
• Смеркалось, и это был час, о котором мне не хочется говорить, безымянный час, когда со всех этажей тюрьмы безрадостным шествием поднимаются глухие вечерние шумы и медленно замирают. – День был на исходе, наступал час, о котором мне не хочется говорить, час безымянный, когда из всех этажей тюрьмы поднимался вечерний шум и вслед за ним – тишина.
• …затихающий писк сонных птиц в сквере, зазывные вопли торговцев сандвичами… – …щебет засыпающих птиц в сквере, оклики лоточников, продающих бутерброды…
И так далее и тому подобное. Таких мест в переводе Галь, за которые цепляется глаз, – десятки. В итоге при чтении приходится постоянно останавливаться, перечитывать текст заново. Шедевр губится с самого начала, уже со второстепенных моментов.
В отдельную категорию стоит выделить те места, где Галь вообще не удался перевод, из-за чего на выходе наблюдается либо явное нарушение смысла, либо возникает ощущение, что переводчица не совсем понимает, что переводит.
• Галь: …За ними – огромная, толстая мамаша в коричневом шелку и маленький, щуплый папаша, я его знаю в лицо. На нем галстук бабочкой, жесткая соломенная шляпа, в руке трость. Увидав его рядом с женой, я понял, почему в нашем квартале он считается человеком весьма достойным. Если читать дальше, то все равно не станет понятно, почему же папаша считается человеком достойным и как это связано с его женой. В то же время перевод Немчиновой все расставляет по местам: …позади – огромная мамаша, в коричневом шелковом платье, и папаша – маленький, худенький человечек, которого я знал по виду. У него была соломенная шляпа канотье, галстук бабочкой, в руке трость. Увидев его рядом с женой, я понял, почему у нас в квартале он считается очень изящным. Пояснения излишни.
• Сходная нестыковка наблюдается у Галь в описании старика Саламано и его спаниеля, а также их взаимоотношений. В результате ситуация, в которой находятся старик и собака, остается, в общем-то, нераскрытой. Пример здесь приводить не буду, поскольку придется выписывать большой объем текста из обоих переводов.
• Но ведь всякий знает – жить не стоит труда – это перевод Галь. Как вне контекста, так и в нем, данная фраза требует дополнительных пояснений. Но читатель перевода Галь их не получает. Как следствие, данная фраза выпадает из цепи дальнейших рассуждений Мерсо. В то же время у Немчиновой читаем: Но ведь всем известно, что жизнь не стоит того, чтобы цепляться за нее.
• А вот вообще потрясающий стилистический «косяк». В переводе Галь мы узнаем, что сразу после оглашения смертного приговора Мерсо почувствовал, что отношение присутствующих в зале суда к нему изменилось, и – цитата: …мне показалось: на всех лицах я читаю одно и то же чувство. Да, конечно, теперь все смотрели на меня с уважением. Жандармы стали очень милы. Что значит – стали очень милы!? Неужели шутили с Мерсо и одаривали его конфетами? Или гладили по голове и трепали по щечке? Непонятно! Ср. у Немчиновой: И тогда у всех на лицах я прочел одно и то же чувство. Мне кажется, это было уважение. Жандармы стали очень деликатны со мной. «Деликатны», «обходительны» – да, но слово «милы» сюда никак не подходит.
К счастью, таких примеров в тексте меньше, чем примеров первой категории, однако не стоит забывать, что цена погрешности здесь выше. Приведу еще один, последний пример и перейду – по нарастающей – к третьей категории, из примеров которой станет понятно, почему у Галь получился не «посторонний», а кто-то совсем другой.
• Галь приводит одно из размышлений Мерсо о приговоре: Его зачитали в восемь часов вечера, но могли зачитать и в пять, он мог быть другим, его вынесли люди, которые, как и все на свете, меняют белье, он провозглашен именем чего-то весьма расплывчатого – именем французского народа (а почему не китайского или немецкого?), – все это, казалось мне, делает подобное решение каким-то несерьезным. Вопрос: что значит выделенная фраза? В контексте она звучит не по-русски. Возможно, это какое-то устойчивое словосочетание во французском языке, которое не стоило переводить напрямую. Например, наподобие esprit de l’ escalier, что в буквальном переводе звучит как «сообразительность на лестнице», а на самом деле «задним умом крепок». При прочтении текста Немчиновой вопросов не возникает: То, что приговор был зачитан не в пять часов вечера, а в восьмом часу, что он мог быть совсем другим, что его вынесли податливые, угодливые люди да еще приплели к нему французский народ (понятие расплывчатое и имеющее к данному случаю такое же отношение, как немецкий или китайский народ) – все это, по-моему, в значительной мере лишало серьезности подобное решение.
Несоответствия, вынесенные в третью категорию, не только «бьют по глазам», но и полностью разрушают образ Мерсо. Итак.
• Перевод Галь: …поехал в купальни у порта. Кинулся в воду и поплыл. Тут было много молодежи. В воде встретился с Мари Кардона, когда-то она работала у нас в конторе машинисткой, в ту пору я ее хотел. И она, кажется, тоже. Но мы не успели, она очень быстро уволилась. Тот же эпизод в переводе Немчиновой: В воде я столкнулся с Мари Кардона, бывшей нашей машинисткой, к которой меня в свое время очень тянуло. Кажется, и ее ко мне тоже. Но она скоро уволилась из нашей конторы, и мы больше не встречались.
• Все о той же машинистке: Немчинова: С того места, где я находился, мне хорошо были видны очертания ее маленьких грудей, нижняя пухлая губка. Галь: Я даже издали угадывал, как колышется ее грудь, видел знакомую, всегда немного припухшую нижнюю губу.
Дальше я приведу несколько примеров из статьи Юлианы Яхниной «Три Камю» и проанализирую как сами примеры, так и комментарии автора статьи.
Как отмечалось выше, главный вывод Ю.Яхниной заключается в том, что Норе Галь удалось лучше перевести на русский язык «нулевой градус письма» (курсивом дается текст Яхниной): Интересно проследить характер тех «уточнений», которые так отличают фразу Немчиновой от фразы Галь. Даже поверхностный взгляд уловит, что это, как правило, слова, вносящие более «личную» окраску в текст, создающие более «доверительную», более эмоциональную интонацию. И даже больше – Яхнина пишет: Галь избирает для своей прозы «нулевой градус письма», иногда, пожалуй, решаясь даже снизить его температуру до минус единицы (Чего ни в коем случае нельзя было делать! – Примечание мое.)
Недостатком перевода Немчиновой, по мнению Яхниной, является то, что ее Мерсо – человек далеко не выключенный из сферы человеческого общения. Во всех своих проявлениях, во всех своих взаимоотношениях с людьми он совсем иной, чем «некоммуникабельный» Мерсо, встающий со страниц прозы Галь. Герой Немчиновой – человек, отягощенный чувством вины, человек с «совестью». Замечу, что в противоположность этому герой у Галь получился порою даже до отвращения грубым. Если такой Мерсо еще хоть как-то вписывается в рамки первой части «Постороннего», то во второй, когда существенно повышается накал «нулевого градуса», он уже вовсе ни к месту, мало того – абсурден.
И в конце повести, подводя итоги и своей жизни и жизни вообще, Мерсо скажет: «Псу старика Саламано цена не больше и не меньше, чем его жене» (Галь), – то есть всякой жизни цена – грош. «Собака старика Саламано дорога ему была не меньше жены» (Немчинова), – «valait autant que sa femme». Здесь, во-первых, стоит принять во внимание незавершенность фразы Галь – Яхниной приходится пояснить ее своими словами. Во-вторых, Галь перевела предложение «в лоб» – глагол valait означает «иметь цену» как в прямом, так и в переносном смысле. И, разумеется, очевидна разница между «иметь цену» и тем, что «дорого».
Проследим дальше, как Галь разрушает образ Мерсо. У Немчиновой Раймона «огорчало», что он не может забыть свою «мерзавку»; он пишет ей письмо, в котором «и шпильки были, и нежность». У Галь ему «досадно», что он не охладел «к этой шлюхе», а в письме он «даст ей по морде и в то же время заставит раскаяться».
Еще один пример, уже касающийся «откровений» (см. выше). «Как ни крути, всегда окажешься в чем-нибудь да виноват», – пишет Галь, то есть тебе всегда что-нибудь (виноват ты или нет) поставят в вину. Нет, утверждает Немчинова: «Человек всегда бывает в чем-то немножко виноват». Вновь стоит обратить внимание на распространенное пояснение, которым Яхниной приходится допереводить переведенное. Что же касается конструкции предложения, то смысл такой, будто бы Мерсо виноват и пытается выгородить себя. А Немчинова здесь подходит с общечеловеческой точки зрения, если угодно, христианской.
Яхнина считает, что для немчиновского Мерсо доброта и благожелательность – естественные чувства. Недаром при первом разговоре с адвокатом он хочет внушить ему «симпатию» к себе: «не для того, чтобы он лучше защищал меня на суде, но, если можно так сказать, из естественного человеческого чувства». У Галь лишь брошенное в никуда: «и не потому, что тогда бы он больше старался, защищая меня, а просто так».
Еще немного про откровения. Осужденный волей-неволей оказывается заодно с теми, кто его казнит (Галь). Приговоренный обязан морально участвовать в казни (Немчинова) .
Ну, и самое главное. В ряде ключевых моментов произведения Нора Галь настолько уходит в «градусность» со знаком минус, что остается лишь развести руками. Немчинова: – Нет, – сказал я. – Схватитесь с ним врукопашную, а револьвер отдай мне. Если второй вмешается или первый вытащит нож, я выстрелю. Галь: – Вот что, – сказал я. – Сойдись с ним один на один, а револьвер отдай мне. Если второй вмешается или если этот вытащит нож, я его пристрелю. И далее, Немчинова: В эту минуту я думал: придется или не придется стрелять. Галь: И я подумал – можно стрелять, а можно и не стрелять, какая разница.
Между тем на этой разнице как раз и построен «Посторонний».
***
Примеров приведено более чем достаточно. Теперь поговорим о выводах. Как справедливо отмечает Яхнина (повторю цитату), герой Немчиновой – человек, отягощенный чувством вины, человек с «совестью». Чтобы создать образ такого Мерсо, чтобы провести его через все перипетии повести и сделать так, что сочувствуешь только ему, несмотря на его прохладное отношение к жизни, к матери, несмотря даже на убийство, и не считаешь его виноватым, необходим не только профессионализм переводчика, но и вовлеченность в произведение.
В то же время, пишет Яхнина, Галь выбирает для своего перевода «нулевой градус письма», иногда, пожалуй, решаясь даже снизить его температуру до минус единицы. Здесь тоже все верно. Яхнина только не замечает, что Галь, таким образом, сделала из своего Мерсо самого настоящего убийцу, то есть разрушила образ.
Переводчику чрезвычайно трудно выдержать линию, если он создает такой образ Мерсо, как Немчинова. Галь пошла по гораздо более легкому пути – образ ее Мерсо четко определен, вписывается в рамки стереотипа, соответственно, выстроить и удержать его куда легче, но данный шедевр не поднимается выше среднего уровня.
Ну и, кроме того, если прокурор, отправивший Мерсо на гильотину, судит Мерсо, описанного Галь, то он вправе вынести тот приговор, который вынес, и с ним стоит полностью согласиться: я требую смерти для этого человека, и требую ее с легким сердцем!
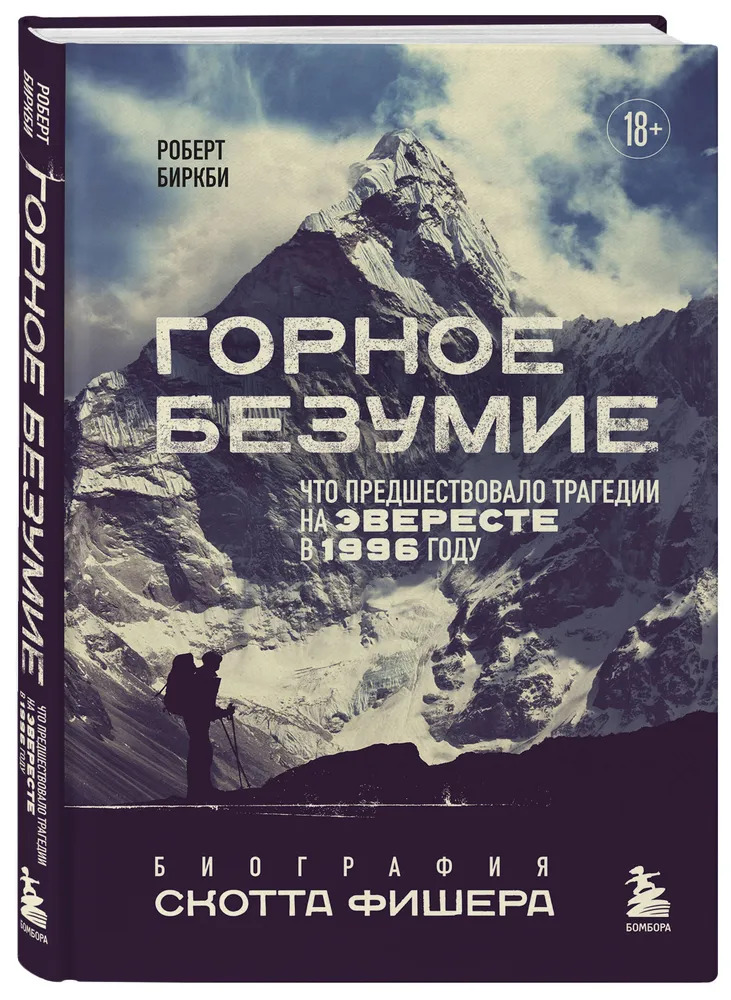




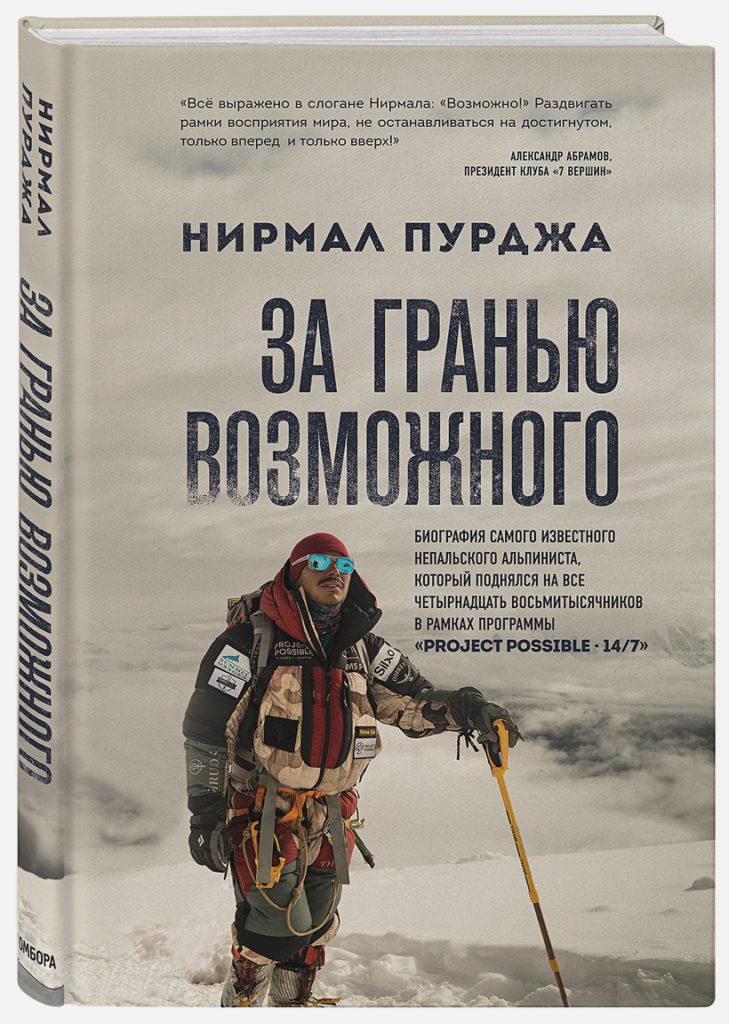





К моему глубокому сожалению, как и автор статьи, я не знаю французского языка , поэтому с позиции
великого Корнея Чуковского я , как и автор статьи, не имею никакого морального права обсуждать работу переводчиков… Ведь самое главное для переводчика — чувствительность к СТИЛЮ автора произведения, способность воспроизвести в русском переводе стилистические особенности первоисточника.
А Стиль возможно проанализировать, понять и «прочувствовать» прежде всего зная язык., на котором написано данное произведение. Сравнивать работу переводчиков с точки зрения .»литературного совершенства» русского языка просто смешно и лишено всякого смысла, т.к.не передает стиль и дух
Альбера Камю. Лично мне больше по душе перевод Норы Галь.
Простите, но причем тут Чуковский? Моральное право автор статьи имеет хотя бы потому, что сам является профессиональным переводчиком и редактором. И никто не сравнивает «работу переводчиков с точки зрения литературного совершенства русского языка», откуда вообще это? Речь о выбранной стратегии перевода. Мерсо Немчиновой значительно человечнее, чем Мерсо Галь. За счет этого конфликт глубже.